Как технологии разрушают общение: новая книга от автора бестселлера New York Times
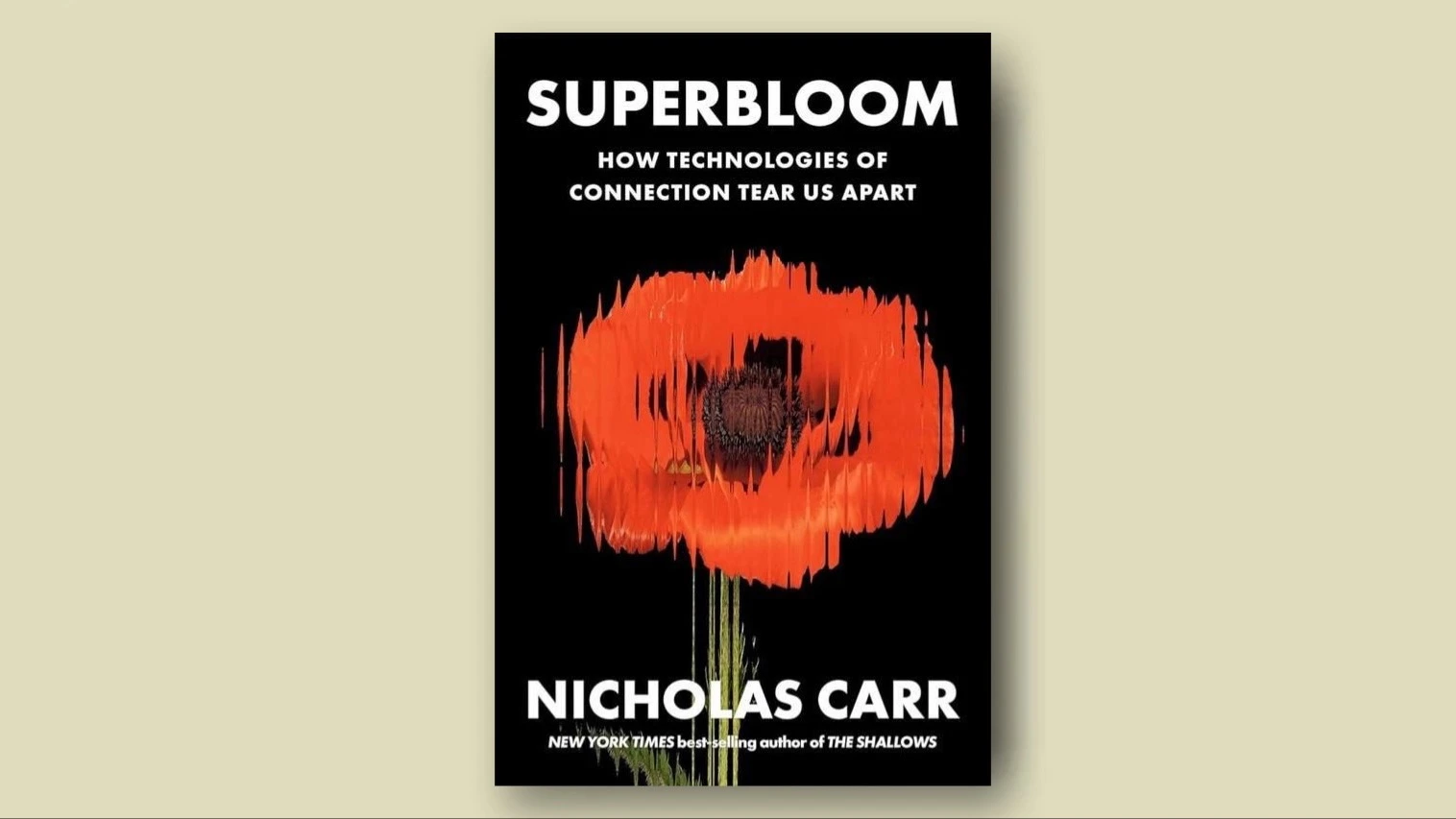
В своей новой книге «Суперцветение. Как связывающие технологии разъединяют нас» Николас Карр рассказывает о том, к чему привел культ вечно развивающейся коммуникации.
Еще один камень в огород технооптимистов забрасывает писатель, враг Википедии и видный борец с диджитализацией человеческого сознания Николас Карр. Его новая книга «Суперцветение. Как связывающие технологии разъединяют нас» (Superbloom: How Technologies of Connection Tear Us Apart) — о том, что культ вечно развивающейся коммуникации до добра не доведет, точнее уже не довел.
Он забил тревогу еще в 2008 году, написав статью в The Atlantic под названием «Делает ли нас Google глупей?», в которой убедительно вещал о том, как интернет перенастраивает нейронные связи и меняет свойства человеческого разума. В 2010 году Карр на основе того текста выпустил книгу «Пустышка. Что интернет делает с нашими мозгами» (The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains).
Одна из глав его новой книги называется «Трагедия коммуникации» и она вполне описывает суть данной работы. В чем собственно состоит современная коммуникативная трагедия? Карр выдвигает четыре основных тезиса, с которыми, в целом, трудно спорить в силу их очевидности.
Во-первых, содержание сообщения погибает из-за того, что классические медиа уступили место тотальной цифровизации. Во-вторых, медиатехнологии стали слишком много брать на себя и решать все за потребителя. В-третьих, в погоне за эффективностью люди пытаются максимально подстегнуть процесс получения информации (например, используя стримы вместо чтения), так что смыслы отстают от скоростей. Как гласит вынесенная эпиграфом к одной из глав старая цитата Жана Бодрийяра, cлова не успевают за своими значениями. Наконец, в-четвертых, социальные сети провоцируют бесконтрольное самовыражение, которое, в свою очередь, приводит к депрессии, выгоранию и, как подчеркивает Карр, клаустрофобии.
Чем сильнее технический прогресс проникает в сферу человеческих коммуникаций, тем выше расслоение и непонимание. Чем больше френдов в том же Facebook, тем выше вероятность того, что в каждом отыщется нечто такое, что будет вас раздражать. Это срабатывает эффект так называемой «цифровой переполненности», digital crowding.
«Семантический аспект коммуникации перестал быть релевантным для алгоритмов», – утверждает Карр. Коммуникации утратили человеческое измерение, но люди все же не компьютеры, их объединяют ценности и интересы, а не технические протоколы. У Гвинет Пэлтроу в сериале «Политик» (2019) была хорошая реплика на этот счет: «Пандемия общения, стремление все рассказывать и выливать друг на друга, привела к отсутствию близости».
Теплый аналоговый мир
Карр воспевает времена, когда медиа говорили на разных языках и с помощью совершенно отличных друг от друга устройств. Информация могла соответствовать тому или иному физическому явлению, будь то печать, радио или телевидение. Подобная специализация делала уникальным и осмысленным каждый коммуникативный процесс — нельзя записать звук на печатную машинку или сделать фотографию на телефон. Никто не думал читать текст с экрана, а это тот кошмар, в который сегодня в той или иной степени погрузилось почти все человечество. Открытка, написанная от руки, телефонный звонок или отправленный факс — все это предполагало принципиально разные формы человеческой близости. Подобные ностальгические соображения Николаса Карра, конечно, немножко напоминают цирковой диалог в фильме «Асса» :
— Вы будете говорить с ним по телефону?
— Нет, по граммофону!
Как бы там ни было, разные информационные форматы создавали эффект цветущей сложности, поскольку напрямую влияли на содержание послания и давали человеку возможность управлять своими чувствами и выбирать ту или иную интонацию. Карр пишет о том, что разница в способах передачи информации была не только технологическая, но семантическая и эстетическая. Остатки того теплого аналогового мира все еще живут среди нас, будь то виниловые пластинки или пленочные камеры, но они скорее выполняют роль фетиша в ролевых играх, тогда как структура медиа безвозвратно демонтирована. На смену пришло некое обобщенное киберпространство, населенное дезориентированными пользователями, которым управляет условный Марк Цукерберг, раздающий индульгенции в виде лайков.
Кто виноват
Цукерберг в книге определенно выступает главным жупелом, ответственным за индустриализацию коммуникативных процессов. Автор склонен видеть в нем бездушного технаря, которого всегда больше интересовали цифры, чем люди. Если основатель теории информации Клод Шеннон рассуждал о способах передачи информации и ее сжатии, то алгоритм Facebook взял на себя уже и редакторские функции. Он решает, что людям стоит увидеть, а что нет, на основании статистического анализа их былых предпочтений. Карр в бешенстве приводит известную цукерберговскую сентенцию: «Белка, умирающая в вашем дворе, может быть важнее для вас в данный момент, чем люди, умирающие где-то в Африке».
Согласно Карру, подобные утверждения и знаменуют собой коллапс содержания. Он сравнивает компании, управляющие соцсетями, с производителя фастфуда и сигарет — подобно тому, как последние дистанцируются от вреда, который наносит их продукция потребителям, так и люди, вроде Цукерберга, не считают своим долгом отвечать за тревожные фокусы с информационными потоками. На слушаниях в Конгрессе в 2018 году Цукерберг отказался признать Facebook медиаресурсом, предпочтя назваться технологической компанией, которая просто пишет коды и производит продукты и сервисы. Иными словами, мы передаем информацию, но не отвечаем за ее значение. Как писали на этой неделе по схожему поводу в бойкой техно-рассылке Pirate Wires, безопасный интернет — мертвый интернет.
Грезы о светлом цифровом будущем в свое время воспринимались своеобразным эхом фукуямовской идеи о конце истории. В 1997 году вышла книга под названием «Смерть дистанции», ее написала редактор The Economist Фрэнсис Кэрнкросс. В ней, в частности, шла речь о том, как цифровой прогресс будет способствовать развитию взаимопонимания, толерантности и мира во всем мире. С появлением Web 2.0. эйфория скакнула совсем высоко, так как многим показалось, что отныне медиа окончательно перешли в руки народа, знаменую собой полную победу демократии. То, что раньше считалось погрешностью из частных мнений, при новой сетевой самоорганизации грозило стать политической силой — твиттер-революции стало тому порукой.
Однако подобно тому, как Фукуяма сильно погорячился с концом истории, так и технооптимизм последних десятилетий не слишком себя оправдал. Во всяком случае, по мнению Карра, великая коммуникативная утопия человечества провалилась. Интернет больше разъединяет, нежели солидаризирует людей. Сетевая демократизация только разъедает сами принципы политической свободы. Обилие дезинформации и примат эмоций приводит к поляризации общества, ставка на кликбейт добивает нюансы смысла. «Смерть дистанции» в итоге породила пост-правду, фейк-ньюз, хаотизацию, диванную аналитику и все то, что историк Нил Фергюсон в конце десятых годов назвал эмократией.
Авторитарные личности обычно ассоциировались с контролируемыми масс-медиа прошлого. Но оказалось, что децентрализованные системы и рынки криптовалют тоже вполне уживаются, если уж не прямо с тоталитаризмом, то по меньшей мере с волюнтаризмом, крахом институтов и прочей харизматичной аморалкой, а роль личности в истории снова разрастается до невиданных масштабов, если судить по действиям нынешней американской власти.
Карр пишет рассудительно и неспешно, он долго запрягает, как будто пытаясь вернуть читателя к тому формату вдумчивого чтения, который, с его слов, разрушил Google. В книге разворачивается большая история коммуникаций — от Цицерона до зумеров и от роли радио в стране большевиков до гибели «Титаника», который, как настаивает автор, затонул в том числе и потому, что радисты передавали слишком много частных сообщений (в том число фейковых), чем помешали основному оператору связи дать точную информацию спасателям. Иначе говоря, по Карру, вина так или иначе ложится на американское правительство, которое совершенно не контролировало радиотрафик.
Карр вообще хороший писатель: факты, которыми он оперирует, всегда небанальны, он умеет отсекать лишнее и не пересказывает в сотый раз биографию, допустим, Маршалла Маклюэна, тогда как неожиданные упоминания таких рок- и поп-коллективов, как Love и The Marvelettes выдает в нем человека с довольно тонким музыкальным вкусом.
Во второй половине книги есть пассаж, где он изящно сравнивает наше блаженное онлайн-присутствие с нескончаемой passeggiata (прогулкой то есть) в обществе самых интересных компаньонов. Но всякая соцсеть — это, в первую очередь, машина неврозов. Она ведет себя как жестокий любовник — то балует нас, то наказывает. Далее Карр на примере сетей погружается в вечные фрейдистские противоречия между Оно и Суперэго. Из других изяществ — хороший образ того, чем является наше нынешнее общение: это уже не вполне речь как таковая, мы по сути не разговариваем, мы объясняем на пальцах, в буквальном смысле слова вцепившись в смартфон.
Маниловские призывы
Но при всех справедливых доводах, бесспорных соображениях и остроумных находках, книга никак не отвечает на основной вопрос — ок, ну а дальше-то что? Какие будут предложения?
Карр, например, искренне скорбит по ламповой заре электронной почты, когда имейлы своим объемом и стилем еще напоминали эпистолярные практики прошлого. И вновь поминает Цицерона, а также Теодора Адорно, который еще в 1951 году предупреждал, что личные письма превращаются в бюллетени. Однако человечество едва ли поумнеет, если откажется от услуг Google, тем более, что эту поисковую функцию уже заменяют чат-боты.
Я сам иной раз по-журналистски скучаю по старым медиа девяностых и начала нулевых, когда ты просто отдавал текст на верстку, и дальше тот как-то сам жил самостоятельной жизнью и продвигался, а у тебя не было заботы вкладываться в его дальнейшую мультиформатную судьбу с прицелом на вирусность — шерить его везде, подбивать лайки, снимать видосы, короче, заниматься тем самым суперцветением, против которого Николас Карр и выступил в своей книге. Ну да ничего не попишешь — как говорил любимый Карром Цицерон, закон повелевает то, что следует делать.
«Суперцветение» так или иначе перекликается с сочинением, которую в прошлом году выпустил звезда социальной психологии Джонатан Хайдт «Тревожное поколение: Как великая перенастройка детства вызывает эпидемию психических заболеваний» (The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness).
Карр ссылается на работы Хайдта. В «Тревожном поколении» многое посвящено пагубному влиянию соцсетей и вообще технологического прогресса как такового на умы подростков. Но Хайдт все-таки предлагал сколь угодно дикий, но все же план действий — отобрать у детей телефоны законодательно и взамен приучить их петь в церковном хоре, ввести цифровой Шаббат и прочее. У Карра все по большей части ограничивается абстрактными маниловскими призывами: людям надлежит перестать быть пленниками гиперреальности, стряхнуть морок алгоритмов и начать общаться друг с другом, а не с чат-ботами, поскольку за подобной симуляцией коммуникации нет ничего, кроме пустоты. Иначе говоря, Карр разговаривает с читателями, как с теми самыми тревожными подростками, о которых писал Хайдт. Но если Хайдт как суровый резонер настаивает на радикальных воспитательных мерах, то Карр, очевидно, понимает, что от прелестей технологического суперцветения людей уже никак не отвадишь. Поэтому его книга — это не учебник кризис-менеджмента, а скорее воскресная проповедь.
Он, кстати, не раз цитирует в ней Библию.