Плановое охлаждение реальности: словарь экономического новояза
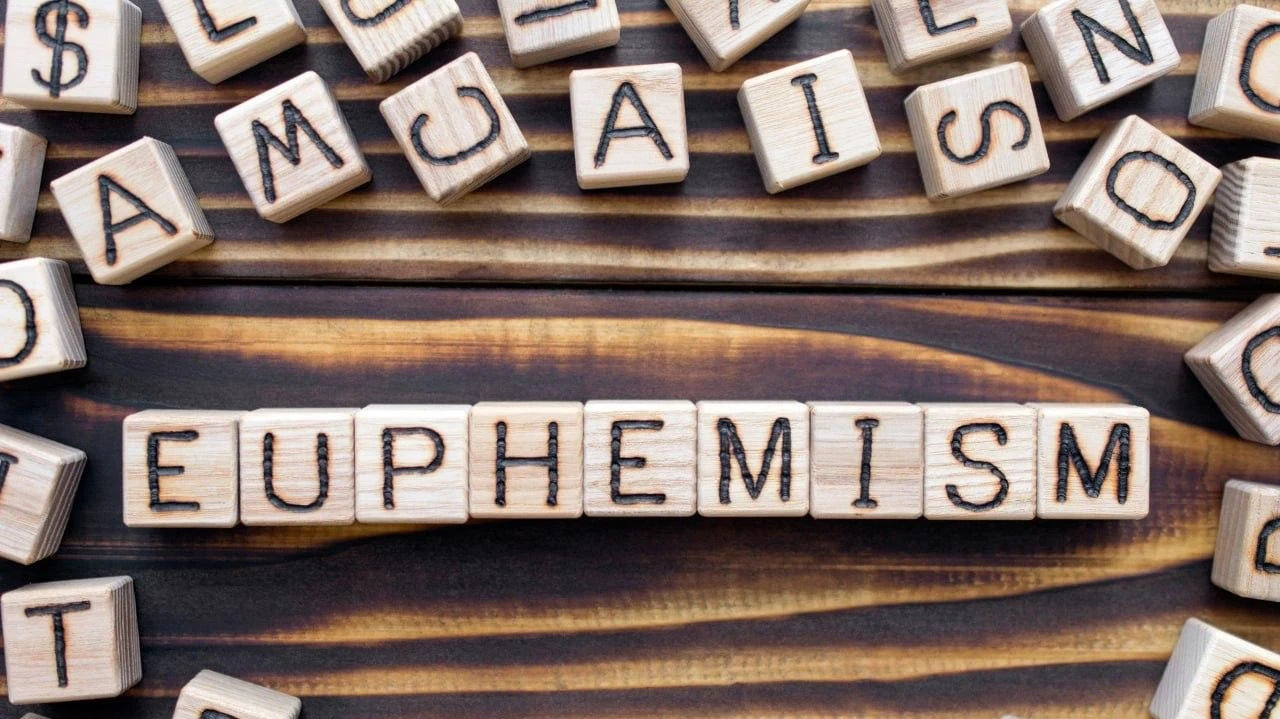
«Плановое охлаждение» и «выход из перегрева» — за последнее время в России возник целый словарь новых «экономических» терминов. Фото: OneSideProFoto / Shutterstock.com
По формальному признаку в России в 2025 году наступила техническая рецессия — два квартала подряд наблюдалось снижение ВВП. Российские чиновники, бизнесмены и экономисты нашли, как сообщить об этом россиянам, не пугая их новостями об ухудшении экономической ситуации в стране. Награждая это слово определениями «плановая», «частичная», «техническая», «управляемая» или заменяя его эвфемизмами, они заметно пополнили экономический новояз. О том, как он стал новой несущей конструкцией российского информационного пространства, Oninvest рассказывает журналист, кандидат филологических наук Ксения Туркова
Как маскируют рецессию
Есть такой советский анекдот. Приемная комиссия принимает дом. В самый ответственный момент на глазах комиссии одна стена дома падает. Бригадир, как ни в чем не бывало, подносит руку к часам и говорит: «Надо же, ровно в 11:33, по плану».
Этот анекдот сразу вспомнил публицист, член экспертной комиссии конкурса «Слово года» Андрей Архангельский, в ответ на просьбу прокомментировать появившийся недавно эвфемизм — «плановое охлаждение экономики». Эвфемизмы в экономической сфере, говорит он, призваны внушить потребителю, что все идет по плану. Что бы ни случилось — значит, так все и было запланировано.
Термин «плановое охлаждение экономики» в очередной раз произнес 13 октября министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая перед представителями комитета Годсумы по бюджету и налогам. Он заявил, что это самое «плановое охлаждение» — трудная, но необходимая задача, ведь в прошлом году экономика стала перегреваться.
По словам Силуанова, такая политика направлена в первую очередь на снижение рыночных процентных ставок. При таком раскладе, пояснил он, у страны появятся дополнительные ресурсы, а реальные доходы населения получат «новое качество роста». Спустя буквально несколько дней он уже заявил, что «экономика России постепенно переходит к траектории сбалансированного и устойчивого экономического роста», а ее «структурная трансформация» сопровождается повышением доходов россиян.
«За похолоданием всегда приходит лето», — ранее обнадеживал министр.
Формулировка «плановое охлаждение» в последние месяцы стала появляться в заявлениях российских чиновников и государственных финансовых организаций всё чаще — на фоне того, как эксперты заговорили о том, что России грозит рецессия.
В середине июня, выступая на Петербургском экономическом форуме, министр экономического развития РФ Максим Решетников признал, что экономика страны находится «на грани перехода в рецессию». «По цифрам у нас охлаждение, но все наши цифры — это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса и по индикаторам мы в общем уже, мне кажется, на грани перехода в рецессию», — заявил министр.
Однако если он использовал осторожную формулировку «на грани», ряд экспертов признавали — не на грани, а уже внутри. «Есть все основания полагать, что экономика России находится в рецессии», — говорил президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. В свою очередь, аналитик финансового рынка Андрей Бархота в интервью телеканалу RTVI заявлял, что в некоторых отраслях российской экономики уже сейчас наблюдаются признаки глубокой рецессии.
А эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предупреждали: даже если Центральный банк смягчит свою политику, то в 2026 году российской экономике рецессии не избежать.
Осенью 2025 года пугающее слово «рецессия» в российском информационном пространстве стало либо все чаще появляться в сопровождении слова «нет» или частицы «не», или заменяться эвфемизмами, призванными создать у россиян впечатление, что все в порядке и ситуация под контролем.
На встрече с лидерами парламентских фракций в сентябре Владимир Путин заявлял, что, учитывая данные рынка труда, российской экономике «еще далеко до рецессии». «Да, замедление экономики происходит. Но рецессии нет», — вторила ему глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она же призывала не путать замедление экономики с рецессией и признавала, что в некоторых отраслях наблюдается то самое «плановое охлаждение».
«...в экономике России произошла «техническая стагнация». Будем надеяться, что ЦБ не допустит перехода в рецессию», — в том же месяце заявил глава “Сбера” Герман Греф.
Впрочем, если рецессию и называют по имени, то используют уточняющие определения: например, «частичная» (создает ощущение, что происходящее касается не всех) или «техническая» (ненастоящая, как искусственная кома, из которой врач может вывести пациента). Кстати, прилагательное «частичный» используется не только в экономической сфере. Когда Роскомнадзор официально заявил об ограничениях, наложенных на звонки в WhatsApp и Telegram, эти ограничения назвали именно «частичными». При этом о том, в чем именно проявляется их «частичность», как долго они продлятся и сколько россиян затронут, в ведомстве не пояснили.
Подобные формулировки лингвисты называют информационными эвфемизмами. «Задымление» в значении «пожар», «ограничить» в значении «запретить», «подтопление» в значении «наводнение», «хлопок» в значении «взрыв» и вот теперь — «плановое охлаждение» в значении «рецессия». В 2020 году эта категория слов оказалась на четвертом месте в категории «Антислово» (язык пропаганды и лжи) независимого конкурса «Слово года».
Новые «экономические» термины
Можно сказать, что за последнее время возник целый словарь таких терминов.
«плановое охлаждение экономики» — подчёркивает управляемый характер спада;
«замедление темпов роста / замедление экономики» — нейтральная формулировка, которая призвана минимизировать драму;
«техническая стагнация» — обозначает отсутствие роста, но не катастрофический спад. Кроме того, как было сказано выше, определение “техническая” как бы успокаивает, мол, мы сами это сделали, рукотворно, сами и выведем;
«выход из перегрева» — создает ощущение нормализации после периода «перегрева»;
«риск рецессии / на грани рецессии» — рецессия представляется как гипотетическая угроза, но не свершившийся факт;
«структурная трансформация экономики» — этот термин создает ощущение, что экономика успешно адартируется к любым изменениям, а негативные перемены подаются как нечто запланированное и необходимое;
«корректировка потребительского поведения», «сберегательная модель поведения» — скрытая констатация того факта, что граждане вынуждены «затянуть пояса». Этот факт подается как нечто позитивное. «Сберегательная модель поведения сохраняется и склонность людей к сбережению остается на исторически высоких уровнях», — заявляла Эльвира Набуллина по по итогам заседания Совета директоров Банка России 25 июля 2025 года.
Экономист Владислав Иноземцев приводит и другие примеры: от «бюджетной оптимизации» вместо сокращения расходов по определённым направлениям до «точечной доводки» налоговой системы вместо повышения налогов. По его мнению, это своего рода набор сигналов, которыми обмениваются между собой сами чиновники, и эти сигналы были выбраны скорее инстинктивно, поскольку в рамках бюрократического новояза любые новости воспринимаются как угроза их источнику.
Иноземцев вспоминает, как еще в середине 2010-х появился термин «нулевой рост» (а потом и «отрицательный рост») для описания посткрымской экономики. По словам эксперта, в некоторых случаях масштаб разрыва между языком и реальностью совершенно уникален: он приводит в качестве примера свой собственную статью об «утилизационном сборе» на автомобили, который сейчас снова резко повышают. «Уже в 2024 его собрали больше, чем бюджет выделил на все экологические программы вместе взятые, то есть тут просто очевидно, что ни для какой «утилизации» одной опасной категории товаров он не предназначается», — делает вывод Иноземцев.
«Нынешние формулировки «переохлаждение» и «экономика выходит из перегрева» применяются для того, чтобы убедить публику в невозможности кризиса (задача — показать, что российская экономика может замедлиться, но не скатиться в рецессию); по сути, это своего рода «заговаривание проблемы», — констатирует экономист.
Новояз как несущая конструкция инфополя
С началом войны таких информационных эвфемизмов стало еще больше, и конечно, в первую очередь в военной сфере. В словарь военного новояза вошли «жест доброй воли» (отвод российских войск с острова Змеиный в Черном море), «перегруппировка» (термин, прикрывающий отступление), «нештатный сход боеприпаса» (когда российский истребитель сбросил авиабомбу на Белгород) и другие.
Со временем именно эвфемизмы стали играть ключевую роль в языке Кремля и пропаганды, стали той самой несущей конструкцией, которая, если и падает, то только по плану. По сути, они стали основой новояза — попытки власти переиначить, перекроить реальность с помощью слов. Конечно, эвфемизмы попали и в экономический дискурс. И чем больше люди чувствуют на себе влияние войны и санкций, тем больше требуется эвфемистических конструкций, чтобы задрапировать происходящее.
Происходящее действительно напоминает не только события середины 2010-х годов, но и 2008 год, когда государственным телеканалам было настоятельно рекомендовано воздержаться от слова «кризис». О существовании такого запрета в интервью «Эха Москвы» сообщил экономист, бывший первый зампредседателя Центробанка Сергей Алексашенко. Сотрудники госканалов это подтверждали на условиях анонимности. По их словам, запрет исходил из администрации президента. «В 2008 году, до конца 2008 года, было запрещено использовать слово «кризис» – был антикризисный штаб, была антикризисная программа, а кризиса не было. Кризис начался в январе 2009 года», — позднее напоминал он.
Особенно старались в регионах. В Свердловской области фактически ввели запрет на слово «кризис»,. «Я бы попросил впредь не употреблять это слово. У нас нет кризиса, у нас временные трудности», — говорил на пресс-конференции тогдашний свердловский губернатор Эдуард Россель. В итоге журналистам некоторых СМИ пришлось срочно придумывать эвфемистические замены: например, «экономическая перестройка».
Впрочем, тогда, в 2008, ситуация отличалась в сторону адекватности, вспоминает Владислав Иноземцев: «Я помню тогда заседания у Суркова, на которых был придуман просто искрометный термин «островок стабильности» (которым, разумеется, обозначали Россию). Но надо отдать им должное: опомнились тогда быстро и пластинку сменили за пару месяцев. Потом начали превозносить успехи правительства как раз в борьбе с кризисом. Сейчас особенность ситуации скорее состоит в том, что языковое безумие только растёт без каких-либо корректировок в сторону адекватности».
Информационные эвфемизмы в военной и экономической сферах не только микшируют ущерб и драпируют негативные последствия тех или иных действий власти, но и показывают, что власть делает все в соответствии с неким планом. А это, убежден публицист Андрей Архангельский, очень хорошо отзывается в советском сознании, греет сердце обывателя и успокаивает. Почему же «план» и «контроль» действуют настолько магически?
«Сам принцип путинского правления заключается в том, что все можно контролировать, включая человека», — говорит Архангельский. Тут странный микс советской идеологии (мир в наших руках) и постсоветского провиденциализма: все предрешено, и предрешено к лучшему. «Это к счастью», — приговаривает хозяйка, когда у неё бьется посуда. «Все к лучшему», — точно так же говорят путинские экономисты, когда экономика работает на оборонзаказ, то есть вхолостую.